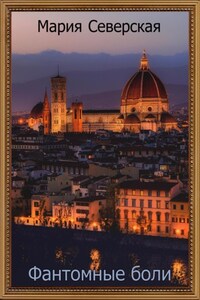Сразу за этим окном начинался город, отсюда кажущийся ненастоящим, игрушечным, даже жалким каким-то, словно льнущая к ногам равнодушного прохожего бездомная дворняга. Грязный, мокрый, серый – одним словом промзона, самая окраина, забытая Богом дыра. И между ним и ею – всего лишь стекло – холодное, если прильнуть к нему лбом, в потеках осенних дождей, которые спустя всего каких-то пару дней станут прошлогодними.
Мысль о Новом годе привычно удручала. Она напоминала себе, что праздники надо просто пережить, принять как данность, с которой не поспоришь. После кошмарной, пронизанной тоской недели все вернется в привычную колею, надо только немного напрячься, сжать себя в кулачки, перетерпеть.
А ведь у них даже елки нет. Эта мысль вызвала кривую усмешку. Кажется, уже сто лет назад, когда была трудным подростком – родительским наказанием – она подсмотрела такую улыбочку у какого-то второсортного киноактера. Сперва долго ее тренировала перед зеркалом, а после не смогла отучиться.
Ни елки, ни планов на самую главную ночь в году, ни настроения. Только усталость, тоска и въевшаяся в зрачки обреченность.
Конечно, можно поехать к родителям. Сидеть за праздничным столом в большой комнате, тщательно пережевывать «Оливье» и через силу улыбаться пошлым несмешным шуткам экранных юмористов.
Можно, но нельзя. Потому что родные и близкие раскусят ее сразу же, едва она переступит порог их квартиры. По телефону-то держать лицо ей еще удается. А при личной встрече посыплются вопросы на тему «почему ты одна?», «а где же муж?», а дальше и вовсе последуют жаления, успокаивания, поглаживания по голове. И ее слезы. А она наверняка разревется.
И попробуй объясни, что плачет не от обиды или жалости к себе, а от стоящей в груди комом злости. Никто не поверит.
Нет, никуда она не поедет. Останется дома. Одна. Может, это даже к лучшему. Ей же нравится оставаться одной, порой она ждет этой возможности, как глотка ключевой воды в полной зноя пустыне.