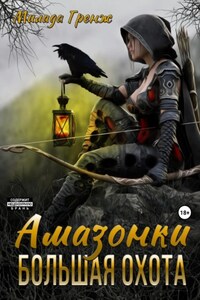Убаюкивающе-нежно, ласково толкались колеса поезда, на стекло окна налипала белизна: белизна снега, белизна сосен и берез, белизна пурги, такой бесконечной, однородной… Она усыпляла, эта белизна.
– Ты мое солнце, Куннэй, – вдруг сказал Ван-И, улыбнулся.
Зубы у него были мелкие, но чистые: весь он был словно породистый, умный, но хворый конь. Куннэй одергивала себя, но все равно из раза в раз подмечала эти зубы, желтую кожу у края лба, по-детски безбородое лицо, тонкие руки и, что хуже, тонкие ноги, – но всегда в конечном итоге возвращалась к ясным, чистым-чистым глазам. Словно прозрачным, таким добрым.
«Вечный мальчишка», – подумала Куннэй, когда увидела его впервые, на Ысыахе, или, как она сказала когда-то Вану и говорила впредь, празднике Плодородия в ее родном улусе. Друг брата. «Очень хороший человек».
***
Пять лет назад она была почти ребенком.
Чистое синее небо в тот день наполнял дым от костров и густой, маревный запах трав: можжевельника, полыни, чабреца… Она удовлетворенно вдыхала с детства знакомый, а потому родной запах Праздника. Волосы Куннэй были тяжелыми от вплетенных бусин, тянули ее лицо к небу, к по-вечернему остывавшему солнцу: так было надо. Потому что вместе со взглядом становится выше и душа.
За ее спиной ветер качал ленты, шедшие от белевшего купола урасы, и она более отчетливо, чем когда-либо, слышала голоса трав, зверей, птиц, видела грузное течение жизни сквозь их тела и, наконец, самый низкий, похожий на гул голос, шедший из самого сердца мира по ту сторону: голос Тайги. Куннэй закрыла глаза, сжала хомус между губ, прижала к зубам и ударила по язычку один гулкий раз, с силой выдохнула, а после – еще и еще, на секунду остановилась, стараясь разобрать среди гула слова или, может, хотя бы интонации слов. Она дышала медленно, с большими паузами, боясь заглушить дыханием голос, голос, который было дано услышать немногим, который она никогда в жизни еще не слышала – и, наконец:
Сорох кэм-м-мнэр буолаллар, сорохторо бааллар-р… Кэм-кэрдии уларыйан-н, бу сир хаһаайын-н-на уларыйан иһэр…