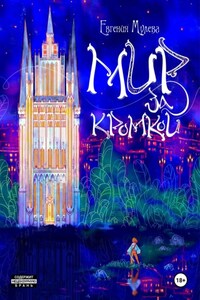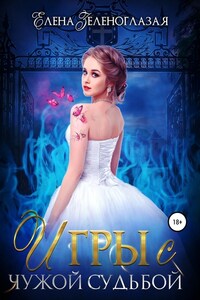Небо пахнет карандашным грифелем, графитной стружкой на канцелярском лезвии, оно ветер и дождь, гроза непролитая, растяжки проводов: от дома к дому болтаются чёрные, из дома в дом тянутся длинные. Под одеялом небо отливает пурпуром, теплом и нежностью. Из коридора слышатся лёгкие шаги. Мне тепло и бестолково, я молчу, и время истончается, утром оно особенно зыбкое. Шагов не слышно. Знаю, Ася застыла у двери. Знаю, на ней зелёный халат – противовес моему нежному пурпуру. Бледно лазоревые волосы схвачены в тонкую косу. Не заходи. Не буди. Только одиннадцать. Рано ещё.
– Спишь?
Её голос – сиреневый шелест, ветер за окнами. Как на такой отвечать? Как не ответить?
С кухни, чувствую, тянет ванилью и дымом, чугунным жаром, балконной сыростью. Если признаюсь – придётся идти туда. Вставать и идти.
– Нет, – шепчу, чтобы не показаться грубой. Прячу губы в подушку. – Не сплю.
Я под одеялом, знаешь тут мягко, будто и мира нет за кромкой постельной, нет его, не найти, и меня не найдут. А знаешь? Знаешь, мне горы снились, белые такие, ледяные облака, холодные реки. Мне бы туда, мне бы к ним, на поляну розовую от иван-чая, мне бы в духмяный июльский день. Но за окнами, вижу, хмарится нечто грузное и дождливое, ну совсем не Домбай и ничуть не июль.
Ася теребит кончик лазоревой косы, сверху корни отросли – стали тёмные, как мои, сам кончик тоненький.
– Я оладушки испекла, – она улыбается, – с ягодами. Вставай.
И я встаю, поднимаюсь тяжелая, сонная. Ася смотрит вскользь, уже не смотрит.
День клубился за окнами:
крылья серые, быстрые,
непрожитый, но сотканный
чудесами да мыслями.