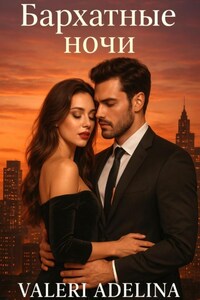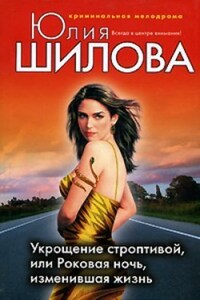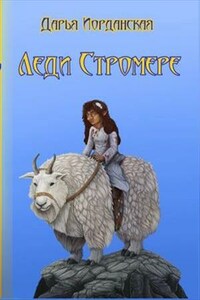В последний военный год мне сравнялось тринадцать лет; в силу своего малолетства я не был ни свят, ни грешен, но не являлся и ангелочком Господним. И в один из апрельских дней солнечной северной весны оказался свидетелем поистине невероятной сцены, которую сам Иоанн Богослов не смог вообразить в своём Апокалипсисе…
Начинался апрель. Солнце, с интересом оглядывая посвежевший мир, выкатилось на середину безоблачного неба. Выглядело оно приветливым, неярким и ласковым, словно бы пушистым. Под застрехами наших домов, крытых по обыкновению тёсом, посеревшим от непогоды, уже натекали первые сосульки, а под ними в чуть просевших сугробах протаивали аккуратные глубокие дырочки-скважинки от срывающихся сверху капель… Благодатное время!
И сам я чувствовал себя весёлым, звонким и лёгким, словно деревянная свистулька. Впрочем, легким-то я ощущал себя и от постоянного – по военному времени – недоедания, и на станцию нашу я отправился по важному поручению моей бабки, которой тайными путями стало известно, что в железнодорожном магазине обещали по карточкам на талон номер шестнадцать выдать по полкило давно забытой на вкус чечевицы…
Бодрящий морозец еще не давал оттаять затвердевшему насту, он прочно и уверенно держал меня, и я в своих больших не по размеру серых подшитых валенках – «катанках», набитых для тепла сеном, с чёрными кожемитовыми латочками на пятках, катился по этому насту, как на лыжах по целику. Сзади меня оставалась гладь, ненарушенная, словно бы свеженакрахмаленная скатерть… Я шёл, невольно вдыхая чуть ощутимый свежий скипидарный запах оттаявшей сосновой хвои, которая из темной, почти чёрной, вдруг сделалась щемяще зелёной, а стволы – словно бы и впрямь медными, звонкими, подобно натянутым вертикально гитарным струнам.
Но до магазина я не дошёл…
Нашу маленькую станцию, затерянную в таёжных дебрях Архангелогородчины, с известным основанием можно было бы назвать узловой. Отсюда в немеряные чащобы уходила узкоколейка на глубинные леспромхозы, где работали заключённые. Мальчишки, и я в их числе, иногда, – ежели не сгоняла охрана и платформы шли порожняком, – ездили по этой ветке на дальние урожайные болота-кочкарники за клюквой. Когда я в последний раз приходил сюда, ладное деревянное строеньице с затейливыми резными карнизами всего-то раза в два побольше обычной деревенской избы, но именовавшееся вокзалом, – в калёные морозы сплошь кудрявилось густым инеем. Даже вывеска обросла мохнатой белой шубой так, что название станции прочесть было невозможно.