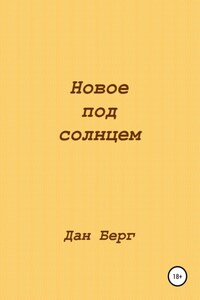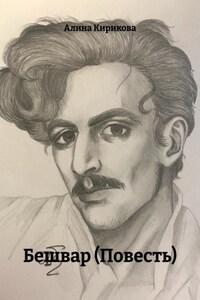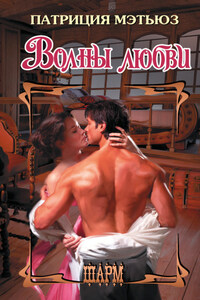Ее кровь давно утратила цвет. Она струилась по жилам, как вода по стеклянным трубкам, почти прозрачная, оставляя кончики пальцев холодными и сухими. Ее сердце обратилось в упругую мышцу, сохранившую единственно доступный ей ритм. Не замедляясь и не ускоряясь. Днем и ночью. Без радости и печали. Без волнений и страха. Она хотела бы испугаться или прийти в ярость, хотела бы зарыдать или зайтись в крике. Но не могла. Ее чувства пришли в упадок, как приходит в упадок некогда заброшенный сад. Иногда ей даже казалось, что она умерла. Вот такая странная, незаметная для глаз смерть. Почти благословенная, без тлена и смрада. Душа свернулась, подобно зародышу в ледяной скорлупке, и заснула. За ненадобностью.
Я вижу ее глаза. В них страх. Сначала недоумение, досада, затем догадка. И страх. Он разгорается, бледностью ползет по лицу. Она и так бледна, кожа цвета алебастра, но под ней переливается кровь, а страх эту кровь изгоняет, тогда белизна становится мертвенной с трупной серостью. Она боится. Как же она боится! Где же оно, то величавое презрение, с каким она взирала несколько часов назад? Его больше нет. Только страх. Ее зрачки расширяются, веки, всегда полуопущенные от того же презрения, от врожденной брезгливости, ползут вверх, чтобы страх, еще скрытый, взвился там, под ними, вспыхнул бы красным всполохом, брызнул пятнами. Она хочет кричать. Губы ее размыкаются, движется горло. Но страх, верный мой союзник, забивает ей горло кляпом. Ей не вздохнуть. Только горло все движется. Ее горло, той же алебастровой белизны, лилейной нежности, с трепетной голубой жилкой, горло, которого я, совращенный, несколько часов назад касался губами. Это горло притягивает меня, зовет. Там средоточие ее жизни, в этом хрупком движущемся узле под бледным покровом. Если этот бугорок сдавить, переломить влажный хрящик, она умрет… Я услышу, как лопнет эта мягкая кость, как дыхание змеиным шипением будет продираться сквозь закушенные губы, как хрипом и бульканьем отзовется сломанный хрящ. Хочу слышать этот предсмертный крик, хочу ощутить ладонями скользкую от пота высокомерную шею. И убить. Хочу убить. От желания мысли плавятся, сливаются в одну. Я весь – эта мысль, весь – порыв, уже не человек, еще не мертв, но и живым не назвать. Сгусток, ядро из плоти и слез. Без души, без сердца. Все осталось там, наверху, среди окровавленных простынь, рядом с почерневшим младенцем и бездыханной матерью. Там остался я, прежний, девятнадцатилетний, с надеждами и мечтами, с юностью и любовью, а здесь, во дворе, я – сама смерть.