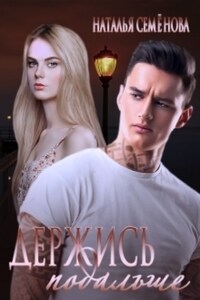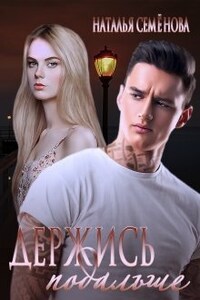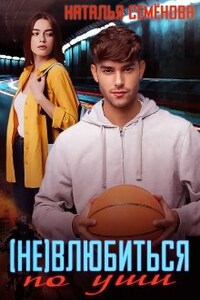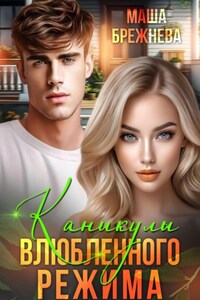Я оборачиваюсь на здание аэропорта: в свете сумерек его архитектурные детали напоминают огромные паучьи лапки, и тут же слышу, как мама меня поторапливает:
– Лиззи, давай, садись в машину. Нам с папой ещё нужно успеть сегодня на ужин к Прибрежным.
Нам с папой. Хорошо – значит, меня они с собой не потащат. Не готова я ещё к встрече со своим вроде как парнем…
Я занимаю заднее сидение и пристёгиваю ремень безопасности. Я скучала по солнечно-солёному воздуху родного города, скучала по дому, по своей комнате, обоям в крупный розовый горох… Скорее бы там оказаться и представить, что последних полгода не было. Но я, конечно, не уверена, что получится.
Не успевает машина тронуться с места, как мама начинает о чём-то рассказывать. Она любит говорить. Обо всём на свете. О своих клиентках, о персонале, о приёмах, которые они с папой когда-либо посещали, о друзьях и соседях. В последние полтора года тема может быть любой, но только не та, что под запретом…
Папа же полная противоположность маме.
Он как всегда хмур и молчалив. Не знаю, повлияли ли так на его жизнь тридцать лет работы хирургом, где от твоей способности сосредоточится и быть внимательным завесили жизни других людей, или он и в юношестве был так же серьёзен.
Мы выезжем на трассу, которая проходит вдоль моря, и я вовсе перестаю слушать маму. Нет, я никогда не смогу разлюбить эту бескрайнюю водную гладь, над которой в свете заходящего солнца порхают чайки. Мне безумно нравится запоминать оттенки синего в неспокойных волнах, голубого или розового, а то и фиолетового на горизонте неба, а затем пытаться воспроизвести на белом холсте увиденный пейзаж. Рисование – моя болезнь, от которой нет лекарства. Оно и есть панацея от всех моих тревог.
– Лиззи, ты меня слышишь?
– Что? – смотрю я на развёрнутый ко мне профиль мамы. – Да, слышу.
– Я как раз говорила твоему отцу, что ужасно не хочу оставлять тебя одну в первый же день твоего возвращения… Но ужин запланированный, мы не можем взять и отказаться. Может, тебе хочется пойти с нами?