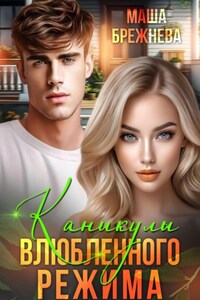Ну, это уже после… А сначала было так. Молодой поэт Альберт срочно привёз свою жену, писательницу Викторию, в роддом. У неё только что отошли воды. Её сразу направили в родилку. Там уже лежала и жутко вопила какая-то роженица. Вика содрогнулась от таких истошных криков:
– А-а-а! Прости меня, Мурка! Теперь я понимаю, как ты мучилась, когда я тебе, беременной, под хвостом скипидаром намазала! А-а-а! Как ты металась и кричала! А-а-а! Мурка, прости меня!
Тут у Вики начались схватки, боль стала невыносимая, и она дико заорала. Шестнадцать часов мучений, и вот, наконец, всё закончилось. Она прокляла этот день, и поняла, что больше никогда, никогда, никогда!!!
– Ну надо же, какой светленький ребёночек родился! – ахнула акушерка. – Все обычно синюшные и сморщенные, а эта розовая, да гладкая такая! И голосистая, во как!
– Хороша девица! – пожилой врач взял младенца и унёс. А Викторию на каталке перевезли в палату.
Когда всем молодым мамам принесли кормить их чад, женщины залюбовались Викиной малышкой:
– Какая хорошенькая, крупная, и пушок на голове светлый. У наших тёмные головки, а эта такая светленькая, ну прям лилия.
– Вик, а ты так и назови её. Лилия.
– Так и назову, – сказала измученная Вика.
Она дала себе клятву больше никогда, ни за что на свете! Нет, не будет больше рожать, отрожалась! А через два года снова попала в роддом. На сей раз появился мальчик, мелкий, синюшный, слабенький. Лёнечка. Вика сразу полюбила его, такого махонького и мокрого, словно котёночек.
Но сначала была Лиля. Альберт забрал жену и дочь домой. Целые полгода Вика приходила в себя. За ней ухаживала мама, приехавшая из Калинина (теперь это Тверь). А когда Виктория набралась сил, Альберт созвал всех общих друзей – поэтов и писателей. И устроил грандиозный праздник в честь рождения дочери. Виктория кружилась по комнате с туго спелёнутым младенцем в руках. Лиля таращила светлые глазёнки и молчала. Она была напугана. Гости пили шампанское, ели бутерброды, и пророчили:
– Сей младенец будет великим писателем! – вещал эпатажный прозаик с пышной шевелюрой.
– Ну уж нет, эта девочка будет великим поэтом! – возражал молодой, но уже известный поэт, худощавый и высоченный, прямо Гулливер какой-то.