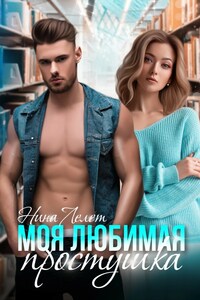Ведьма садится на край кровати и берет меня за руку, а затем поворачивается к Мирезу и качает головой. Улыбка брата гаснет.
– Я хочу знать, – шепчу я.
Она склоняется надо мной и смотрит в глаза.
– Когда закончится лето, вы умрете, принцесса.
Ведьма не боится произнести такие слова дочери короля. Она смотрит на меня прямо, без жалости и без страха, и за это я ей благодарна.
Я не могу понять, какое чувство приходит первым – страх или облегчение. Боль так давно въелась в кожу, кости и тело, что избавление от этой ноши так манит меня.
Ведьма встает и выпускает мою руку. Мирез выходит из ступора только тогда, когда ведьма уже стоит в дверях.
– Как ее спасти? – кричит он и, вскочив, спешит за ней. – Как ей помочь? Должен быть способ.
Дверь за ним захлопывается, голоса удаляются, и я не слышу ее ответ.
Я лежу в огромной постели и жду, когда вернется Мирез. Из распахнутых дверей, ведущих на террасу, в комнату струится аромат жаркого лета – свежескошенной травы, увядающих роз, нагретого солнцем воздуха. Край шторы медленно приподнимается над полом. Полупрозрачная ткань балдахина качается в такт дыханию ветра. Где-то в саду стрекочет насекомое, но звук такой тихий, что я не решаюсь предположить какое.
Мои ноги укрыты пледом, но я все равно мерзну. Ступни никак не могут согреться. Холод держит крепко, пробирается в кости так глубоко, что не остается сил даже дрожать, и я лежу, застыв, заледенев, лишь поворачиваю голову в сторону окна, откуда в комнату льется тепло августа, которого я не чувствую.
Из мыслей не выходят слова ведьмы. Они крутятся в голове и распадаются на тысячи кусочков, а затем собираются, чтобы ударить с новой силой.
«Когда закончится лето, вы умрете».
Когда боль на мгновение отступает, облегчение, что виделось мной в скорой смерти, перестает быть таким привлекательным. Я совсем не успела пожить.
В моей жизни не происходит ничего. Она проносится мимо, а я лежу в своей постели и никуда не двигаюсь. Лишь бесконечные лекари, травницы, ведьмы и поток мыслей, который уже давно унес меня в такую пучину отчаяния, что оно сменилось безразличием.