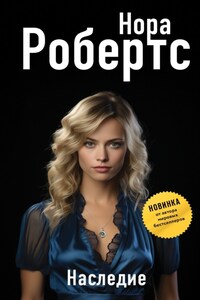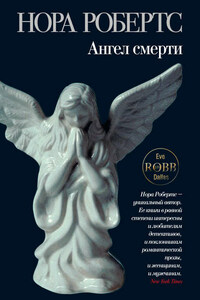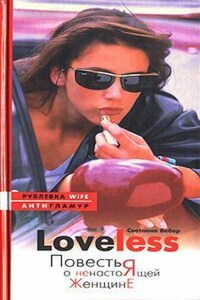Он возвращался домой.
На Восточное побережье Мэриленда, в мир болот и топких берегов, где настырное море отвоевывало часть прибрежной полосы при каждом приливе и неохотно возвращало ее суше с отливом; где плодотворная земля дарила щедрый урожай; где у неторопливых извилистых протоков и в укромных бухточках находили убежище длинноногие цапли. Он возвращался в мир голубых крабов и упрямых моряков.
Где бы он ни находился – в первые скверные десять лет жизни или в последние, успешные годы, уже разменяв третий десяток, – только этот край он считал своим домом. Бесчисленные воспоминания, сохранившиеся с удивительной четкостью, сверкали в его памяти, как солнце в водах Чесапикского залива.
Он въехал на мост, цепким взглядом художника окинул белые яхты, неспешно скользящие по густой синеве залива, проворные барашки волн и пикирующих за добычей прожорливых чаек, а также обрамляющую залив кромку земли, словно забрызганную переливчатой зеленью, и сочную листву купающихся в весеннем тепле дубов и эвкалиптов.
Он хотел запомнить этот момент так же четко, как свою первую поездку через залив к Восточному побережью: себя, угрюмого, испуганного мальчишку, и мужчину, пообещавшего ему настоящую жизнь.
Тогда он сидел на пассажирском сиденье рядом с едва знакомым пожилым мужчиной. Все его пожитки – жалкая одежонка и какие-то мелочи – уместились в бумажном пакете. Живот сводило от страха неизвестности, но он смотрел в окно со скучающим видом – так ему, во всяком случае, казалось.
Пока он с этим стариком, он не с ней. На тот момент ничего лучше для него и быть не могло.
Да и старик вроде бы ничего. Не воняет ни перегаром, ни мятными пастилками; ими кое-кто из подонков, которых Глория приводила в их очередную конуру, пытался заглушить запах алкоголя.
А старик – его звали Рэй – покупал ему гамбургер или пиццу, когда они встречались пару раз. И старик с ним, мальчишкой, разговаривал.
В его жизни взрослые не разговаривали с детьми. Они или приказывали, или болтали только друг с другом, будто детей не было рядом.
А вот Рэй с ним разговаривал. И слушал. И когда старик спросил, не хочет ли он пожить с ним, он не почувствовал ни удушливого страха, ни обжигающей паники.