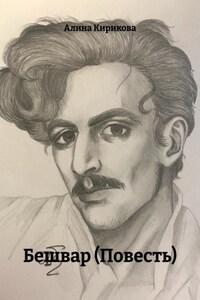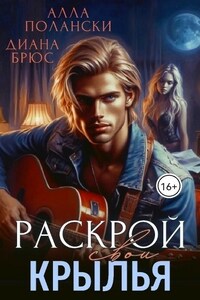Ларионов сидел в натопленном кабинете за обтянутым зеленым сукном рабочим столом, задумчиво глядя поверх стакана остывшего чая в мельхиоровом подстаканнике. Подле стакана примостилось блюдце с двумя огромными кривыми кусками грубого сахара, напоминавшего нафталин. Переполненная окурками серебряная пепельница внушительных размеров занимала привычное место с левой стороны. Ларионов предпочитал держать папиросу в левой руке, когда читал или писал. За три года работы начальником небольшого – в две с половиной тысячи с лишним человек – лагпункта все ему опостылело, наскучило. Даже еда, приготовленная заключенной – поварихой Валькой Комаровой – из продуктов, специально для него привезенных из самой Москвы, его не радовала, а наоборот, была противна – до того неестественной она казалась Ларионову в условиях лагеря, где все было гадко.
Всякий раз, когда Ларионов задавался этим неприятным и волнующим его вопросом – отчего ему все стало противно здесь? – он, словно сам боясь ответа, отталкивал от себя правду, стараясь забыться. И тогда он открывал свою инкрустированную слоновой костью флягу с армянским коньяком, отправленным таким же специальным заказом в лагпункт, и выпивал.
И в это позднее сумрачное холодное утро Ларионов, устремив неподвижный взгляд на первый снег за низким окном, достал из внутреннего кармана френча ту самую, некогда принадлежавшую белому офицеру трофейную флягу, подаренную ему, Ларионову, еще на Кавказе ротным Кобылиным. Привычным быстрым движением Ларионов запрокинул флягу и медленно сглотнул, прикрыв глаза от наступившего ненадолго облегчения. Коньяк приятно и равномерно разогрел горло и, расплывшись уютным теплом в груди и плечах, добежал до самых лодыжек. Слегка успокоившись, Ларионов с удовольствием раскурил папиросу и наконец окинул взглядом «дела» новичков.
Ларионов был не в духе с утра, так как прибывал обоз с новыми заключенными, и особенно неприятно было то, что среди них большинство были «политические», да еще и несколько старых или хворых женщин.