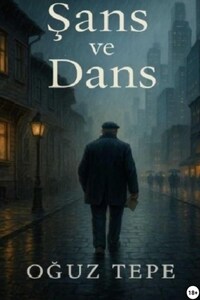Гранада, 1937 год
Тишину комнаты, погруженной за прикрытыми ставнями в ночной полумрак, нарушил щелчок осторожно закрываемой двери. Мало того что она преступно опоздала, но и совершила еще одно прегрешение – попыталась пробраться домой незаметно.
– Мерседес! Где, во имя всего святого, тебя носило? – раздался громкий шепот.
Из сумрака в переднюю шагнул молодой человек, и девушка, лет шестнадцати, не старше, застыла перед ним, склонив голову и спрятав за спину руки.
– Почему так поздно? Зачем ты так с нами?
Он замялся, растерявшись от смешения чувств: совершенного отчаяния и безусловной любви к этой девушке.
– Ну и что у тебя там? Как будто я сам не догадаюсь.
Она вытянула вперед руки. На распрямленных ладошках неуверенно покоилась пара поношенных черных туфель; кожа их была мягкой, словно человеческой, а подошвы – протертыми чуть не насквозь.
Он с нежностью обхватил ее запястья и, удерживая их в своих руках, взмолился:
– Ну пожалуйста, в последний раз тебя прошу…
– Прости, Антонио, – тихо ответила она, встретившись наконец с ним взглядом. – Я не в силах остановиться. Ничего не могу с собой поделать.
– Это опасно, керида миа[1], опасно.
Гранада, 2001 год
Прошли считаные секунды после того, как две женщины заняли свои места. Они были последними из числа допущенных на представление, и хмурый хитано[2] решительно задвинул щеколды на двери.
Волоча подолы своих пышных юбок, к зрителям вышли пять девушек с волосами оттенка воронова крыла. Плотно облегающие платья создавали вокруг их фигур завихрения огненно-красного и оранжевого, ядовито-зеленого и охристо-желтого. Насыщенные цвета, коктейль из тяжелых запахов, стремительность появления танцовщиц и их надменная поступь были нестерпимо, нарочито мелодраматичными. За девушками следовало трое мужчин, одетых мрачно, точно на похороны; все в них было черным как смоль – от смазанных маслом волос до кожаных туфель ручной работы.
Затем атмосфера переменилась: просачиваясь сквозь тишину, в вялом нездешнем ритме зазвучали хлопки, отбиваемые легким и быстрым ударом ладони о ладонь. Один из мужчин стал перебирать струны. Из глотки другого вырвался густой и горестный вопль, который скоро вылился в песню. Резкость голоса перекликалась с грубоватостью этого места и суровостью изрытого оспой лица исполнителя. Только он и его труппа понимали слова на малопонятном наречии, но зрители были способны ухватить смысл. Потеря любимой.