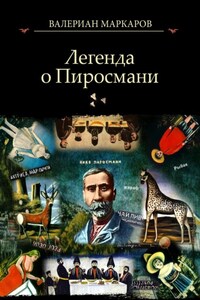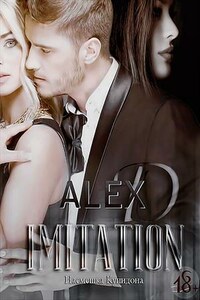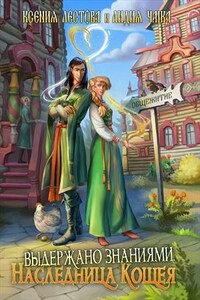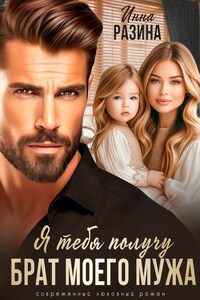Сухие июньские дни принесли с собой страшные времена. Тифлис, ещё недавно весёлый и шумный, наполненный детским смехом, уличным говором и лаем собак, – словно вымер. Город, где жизнь начиналась с первыми лучами солнца, где под утренним светом закипали базары, раскрывались ставни, скрипели колодцы и доносились звуки флейты и женского пения, – затих.
Нарядный, пленительный, он утопал в зелени: раскидистые чинаровые кроны, вековые липы, мохнатые каштаны, кусты алых и белых роз, наполняющие воздух терпким, головокружительным ароматом. А вокруг города – древние развалины крепостей и башен, источающие безмолвие старины. За ними – синеющие вдали горы, над которыми серебрятся в перламутровой дымке недосягаемые вершины Эльбруса и Казбека. В поднебесье по-прежнему парят орлы. Но сам Тифлис был мертвенно тих. Всё живое словно ушло в себя, спряталось, затаилось.
Грозная гостья с жёлтых, иссушённых ветром персидских земель – она явилась без приглашения, неся на себе пыль караванных путей, дыхание пустынь и зловонье мертвечины. С неторопливой последовательностью захватывала она города и веси, сокрушала их растерявшихся и беспомощных жителей. Огромной чёрной птицей долетела она и до берегов Куры; раскинув гигантские крылья, парила над черепицей домов, над дворами, над базарами, над монастырями. Каждый, кого она осеняла, падал – не как воин, а как муха в жару: без крика, без молитвы, с выцветшими глазами.
Холера – свирепое и ненасытное порождение нечистой силы – убивала стремительно, не оставляя времени ни на прощание, ни на раскаяние. Час назад – человек здоров, бодр, за чаем в гостиной; час спустя – синеющий, высохший труп. Смерть приходила, как лихорадочный сон, без логики, без жалости. Её не трогали богатство, чин, добродетель, святость – она уравнивала всех. Умирали князья и торговки, епископы и ремесленники, дети и старцы.
Страшное безлюдье и пугливая тишина царили в городе. Редкие прохожие с замотанными тряпками лицами, выпачканные дегтем и пахнущие чесноком, бродили по улицам как тени. По вечерам сквозь заложенные ставни редко-редко пробивался наружу неосторожный луч света. Тяжёлые щеколды с пудовыми замками запирали лавки: прекратилась торговля, закрыли свои мастерские ремесленники, опустели присутственные места. Даже на извозчичьей бирже, где постоянно толпились, судача не хуже старых баб, тифлисские «фаэтонщики», на этот раз было тихо и безлюдно. Растерянные хозяйки выглядывали из окон, тщетно пытаясь услышать привычные возгласы разбитных тулухчи: «Вадаа! Вадаа!». Воды в городе не было. Не было и жизни. Но ежедневно целые обозы с простыми, сколоченными из досок гробами угрюмо тянулись на кладбища, к поспешно вырытым за ночь неглубоким ямам.