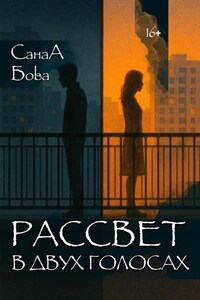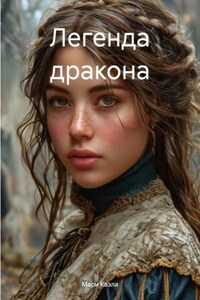Москва марта 2020 года замерла в тревожном оцепенении, её улицы, ещё недавно полные шума шагов, клаксонов и обрывков разговоров, опустели, словно город решил затаить дыхание перед неизведанным. Пандемия, о которой сперва шептались как о слухе из далёких стран, ворвалась в жизнь стремительно, точно мартовский ветер, что срывает первые цветы с веток. Новостные выпуски, звучащие из радиоприёмников и телевизоров, диктовали новые правила: школы закрылись, кафе опустили жалюзи, а лица прохожих скрылись за медицинскими масками, оставляя лишь глаза – настороженные, усталые, полные вопросов без ответов. Город, привыкший к движению, получил приказ остановиться, и люди, точно тени, разошлись по своим домам, запирая двери перед невидимой угрозой, что витала в воздухе.
Дом №17 на тихой улице, серый и неприметный, словно слился с этой новой реальностью. Его потрёпанный фасад, испещрённый трещинами и небрежными росчерками граффити, стал ещё менее заметным на фоне безлюдных тротуаров. Внутри, за облупившимися стенами, жизнь текла медленно, будто время загустело: скрип старого лифта звучал реже, запахи стряпни – борща, жареной картошки, прогорклого масла – оседали в коридорах, а звуки – звон посуды, приглушённый гул телевизоров, шаги по лестнице – обрели странную чёткость в наступившей тишине. Жильцы, ещё недавно обменивавшиеся короткими кивками у подъезда, теперь стали друг для друга призраками, их миры сжались до размеров квартир, где дни сливались в монотонную череду одинаковых ритуалов.
На четвёртом этаже, в тесной однокомнатной квартире, пропахшей старой бумагой и растворимым кофе, Лена сидела за шатким столом, заваленным альбомами, карандашами и пустыми кружками. Ей было тридцать два, и её жизнь, как её рисунки, казалась застывшей: ни новых историй, ни ярких красок, только наброски, что пылились в углу, не найдя своего финала. Она была художницей, создавала комиксы для небольшого издательства, но её работы, когда-то полные огня, теперь казались ей тусклыми, словно принадлежали другой, более смелой версии себя. Пандемия заперла её в четырёх стенах, отрезав от редких встреч с коллегами, от шумных кафе, где она любила рисовать, от мира, который и без того давно отдалялся. Её утро начиналось с ритуала: заварить чай, включить радио, что бормотало о карантине и статистике, и попытаться нарисовать хоть что-то, но карандаш замирал над чистой страницей, а взгляд терялся в пожелтевших обоях, будто ища в них ответы.